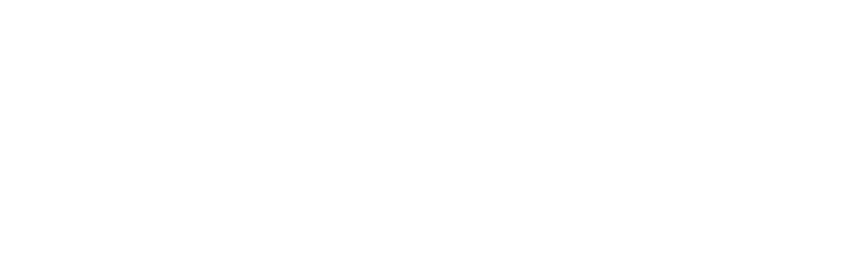Поездка на конференцию АДИТ-2025 в Красноярск стала погружением в то, как музеи сегодня переосмысливают свое прошлое и осваивают цифровое будущее.
С 30 мая по 6 июня 2025 года Красноярск и Енисейск стали центром дискуссий о будущем музеев в цифровую эпоху. XXIX конференция Ассоциации «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии» (АДИТ) собрала рекордные 305 участников из 33 регионов России — от Калининграда до Хабаровска. Конференция уже не впервые объединила не только традиционные форматы — пленарные заседания и секции, — но и масштабные выездные мероприятия в малые города Сибири (Енисейск, Минусинск, Шушенское).
Главной темой года стала трансформация базовых функций музеев под влиянием технологий. Среди ключевых направлений можно выделить:
- Госкаталог Музейного фонда РФ — инструмент не только учёта, но и коммуникации с обществом.
- Цифровая безопасность — защита данных и этика цифровых коммуникаций, особенно актуальная для удалённых музеев .
- Правовые аспекты существования музеев в цифровой среде.
Конференция АДИТ-2025 подтвердила: цифровизация — это не про «гаджеты», а про новые смыслы. Как отметил Лев Яковлевич Ноль, основатель АДИТ, «музеи будущего — это те, где технологии усиливают, а не заменяют человеческое взаимодействие».
Из увиденных музеев хотел бы отметить два – те, которые наглядно демонстрируют возможности переосмысления прежних коллекций и взаимосвязи традиционных форм с современным искусством.
Музейный центр «Площадь Мира»
С одной стороны, архитектура памяти, с другой — искусство настоящего.
Открытый в 1987 году как 13-й и последний музей Ленина в СССР, центр изначально воплощал идеологический канон. Его здание в стиле советского модернизма, напоминающее Саянские «Столбы», хранило реликвии культа вождя: гипсовые бюсты, подарки партийных делегаций, гигантскую бронзовую скульптуру «Ленин и товарищи» (16 тонн!). Сегодня эти артефакты не спрятаны в запасники, а переосмыслены.
Диалог эпох в экспозиции — яркий пример археологии смыслов. В бывших ленинских залах соседствуют агитплакаты и «Черный квадрат» Малевича, иронично помещенный в угол — отсылка к ленинскому неприятию авангарда как тунеядства.
Музей-заповедник «Шушенское»
Можно сказать, этот музей проделал путь от священной ссылки к живой этнографии. Но все равно, Ленин там — точка отсчета.
Музей создан в 1930 году как мемориал сибирской ссылки Ленина, Сегодня же он – архитектурно-этнографический комплекс. На 16 гектарах воссоздано село XIX века: 29 домов (23 подлинных), волостное правление, тюрьма, кабак. Но до 1990-х акцент был идеологическим: интерьеры изб кулаков игнорировались, а этнография считалась ненужным отвлечением.
Сегодня же наоборот – этнография и возражение ремесел занимают центральную часть экспозиции. В музее появилось 6 аутентичных усадеб с программами погружения, где посетители ткут полотно, пекут хлеб, ночуют на полатях, осваивая ремесла не как фон ссылки, а как самоценную культуру.
Оба музея — отличные case studies. Их опыт показывает, как, не стирая прошлое, его можно интегрировать в современность и наполнить новыми смыслами.





На секции по юридическим аспектам деятельности музея в цифровом пространстве больше всего вопросов касалось авторских прав искусственного интеллекта и возможностей использования изображений музейных предметов.
Правовая база России, регулирующая вопросы искусственного интеллекта, находится в зачаточном состоянии. Существует Стратегия развития ИИ, утвержденная Указом Президента в 2019 г (N 490 от 10.10.2019). Согласно названному документу, ИИ определен как комплекс технологических решений, а его регулирование базируется на законах «Об информации» и «О персональных данных». Налицо существенный пробел в законодательстве, потому что ИИ необходимо рассматривать и как компьютерную программу (программу для ЭВМ) в контексте права интеллектуальной собственности (Четвертой части Гражданского кодекса РФ). Ведь ИИ и сам является результатом творчества (а значит, должен охраняться авторским правом), и активно применяется при создании других объектов интеллектуальной собственности (так называемый генеративный ИИ).
Также требует урегулирования вопрос использования произведений литературы и искусства при обучении ИИ. Например, в США уже идут суды, инициированные сообществами художников, не согласных, чтобы их картины загружались в базу для обучения ИИ.
Буквально на днях киногиганты Disney и Universal подали в суд на нейросеть Midjourney. Обвинение — массовое нарушение авторских прав при обучении алгоритма. Дело может стать поворотным для всей сферы генеративного ИИ.
В России пока такой судебной практики нет.
Вопрос авторства произведений, созданных с помощью ИИ, активно обсуждается в научной юридической литературе. Особенно дискутабелен аспект, можно ли признать сам ИИ автором. Но для этого потребуется коренным образом изменить концепцию авторства, ведь на сегодняшний день автор — это всегда физическое лицо (человек). На мой взгляд, ИИ как программа не может являться автором, поскольку он сам по себе не ставит цели творчества. Творчество присуще только человеку, а объект охраны авторского права — это результат именно творческой деятельности. Искусственный интеллект скорее стоит рассматривать как инструмент создания произведения. Ведь мы не признаем автором картины кисти и краски? Автором будет художник, который написал шедевр с помощью кисти и красок.
Подобного подхода придерживается Суд по интеллектуальным правам, который признал автором ролика, созданного с помощью deepfake, блогера, использовавшего нейросеть, но никак не саму программу.
Если говорить о специальном праве музеев на использование изображений музейных предметов и коллекций, то стоит отметить, что это право не относится к интеллектуальной собственности, а заложено в Закон «О музейном фонде». И распространяется оно на все музейные предметы, в том числе и те, которые авторским правом не охраняются (предметы быта, гербарии, археологические коллекции и т.д.). Еще один момент – названное право никоим образом не ограничено периодом действия исключительного права на произведение искусства (70 лет с момента смерти автора).
Так, например, российский дизайнер Ия Йотс проиграла суд Эрмитажу в связи с переработкой изображения картины Томаса Гейнсборо «Дама в голубом» («Портрет герцогини де Бофор»). А ведь английский мастер умер еще в XVIII веке. Но Эрмитаж потому и одержал победу, что речь шла не об авторском праве, а о специальном праве музея.
Так какие же возможности есть у музея?
Музей наделен правом давать согласие на коммерческое использование изображений музейных предметов и музейных коллекций. Обратим внимание, что речь идет именно о коммерческом использовании, то есть о таком, которое предусматривает извлечение прибыли, получение дохода. Если предполагается использовать изображение картины в образовательных, научных и подобных целях, то спрашивать согласие музея нет необходимости.
Законодатель также оговаривает, что согласие музея требуется и в том случае, когда речь идет об использовании изображений при изготовлении тиражируемой продукции (печатной, сувенирной) и товаров народного потребления. И в данной формулировке речь уже не идет о коммерчески или некоммерческих целях.
Безусловно, в одну колонку не уместить все впечатления от Красноярска, Енисея, Саянских столбов, Саяно-Шушенской ГЭС, музеев, спектаклей на крыше, дискуссий, общения с коллегами. Неделя действительно выдалась на редкость наполненной и содержательной. Именно так всегда и бывает на конференциях АДИТ. Следующая пройдет через год в Архангельске.